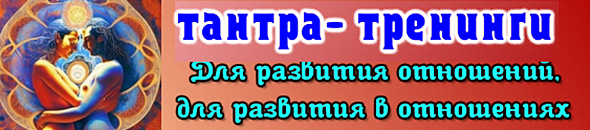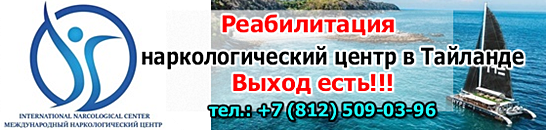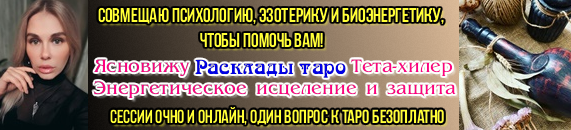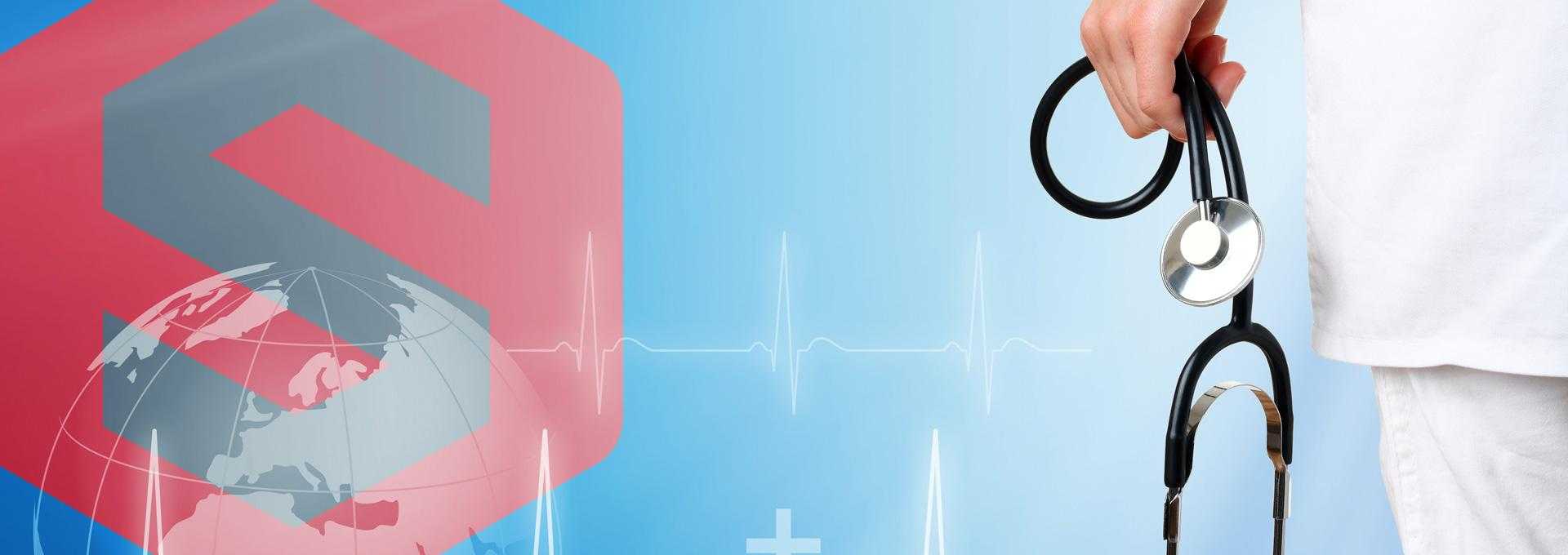ДВА ПОЛЮСА ПРИВЯЗАННОСТИ
Каждый, действительно каждый ребенок, независимо от его интеллекта
и прочих талантов, приходит в этот мир, обладая потенциалом, который
может реализоваться в ходе его наполненной жизни. Раскроются ли такие
заложенные в нем свойства, как становление, адаптация и интеграция, зависит большей частью от того, найдет ли он подходящие для этого
условия. Однако абсолютно необходимой для полного развития этих качеств является возможность ребенка установить глубокую привязанность к по меньшей мере одному человеку.
Что понимают под глубокой привязанностью? Слыша о привязанности, вы, вероятно, спонтанно думаете о том, что происходит между матерью и ребенком сразу после родов: новорожденный открывает глаза, ищет зрительный контакт с матерью, возможно, впервые сосет ее грудь и при этом пристально смотрит ей в глаза. Это установление контакта, по-английски называемое bonding, само по себе прекрасно – но это
лишь крошечная часть того, что составляет привязанность.
Привязанность, если рассматривать ее вне межчеловеческих
отношений, по сути, является одним из основных принципов нашей общей
вселенной: электроны привязаны к ядру, кварки, будучи связаны, роятся друг вокруг друга, планеты вращаются вокруг солнца, у последнего имеются свои связи в спиральных туманностях всей галактики – все основывается на привязанности, и без силы притяжения, нашей привязанности к Земле, мы были бы лишены всяческой опоры. Привязанность между детьми и
родителями – это своего рода особый физический случай. Она действительно очень специфична.
В ходе эволюции животного мира млекопитающие стали первыми, у
кого нашла применение концепция теплокровия. В то время, как амфибии и
рептилии – кроме редких исключений – предоставляют потомство самому
себе, которое обычно в состоянии сразу самостоятельно выживать, у
млекопитающих (и птиц) это происходит принципиально иначе. Детеныши
млекопитающих появляются на свет в поразительно беспомощном состоянии и поначалу для роста и развития нуждаются в специальной, производимой исключительно их матерью, питательной жидкости. В соответствии с этим фактом весь вид получил свое название.
Чтобы эта своеобразная конструкция могла функционировать, природа
должна была изобрести еще нечто, что обеспечит детенышам близость их
родителей и надежно удержит родителей от того, чтобы бросить их
беспомощное, зависимое потомство на произвол судьбы или даже слопать
как лакомство. В связи с этим как у детенышей млекопитающих, так и у их
родителей появились мощные инстинкты, которые можно наблюдать у всех
представителей вида, включая людей. Также у птиц был подмечен похожий
принцип, хотя единственными известными науке птицами, производящими в зобу сравнимый с молоком секрет, являются голуби. Зато у птиц отец
зачастую играет равноправную или даже преобладающую роль в заботе о
потомстве. Модели сосуществования разнообразны, но у всех этих видов есть нечто общее.
Детеныши ничего не хотят так, как оставаться вблизи матери или
родителей, и получать от них тепло и заботу. Гордон Ньюфелд называет этот
порыв стремлением к близости. Это мощнейшее стремление к близости
проявляется у людей настолько сильно и до такой степени пронизывает всю нашу жизнь от колыбели до смертного одра, что науке понадобилось значительное время, чтобы вообще обнаружить это влечение. Стремление к близости у наших детей по интенсивности превосходит все остальное, даже потребность в пище и безопасности. Человеческие детеныши приходят в мир совершенно «ручными» и беспомощными и из-за особенностей развития человеческого мозга, приспособленного к обучению на протяжении всей жизни, сравнительно долго они требуют очень много заботы и помощи.
Необходимость пребывать на руках и получать внимание и заботу от
одного из старших членов вида настолько инстинктивно сильна, что все дети в мире спонтанно издают крик ужаса и паники, когда их оставляют в одиночестве, особенно в темноте. В наше время постепенно приживается понимание того, что это – не злой каприз природы, цель которого – испортить родителям уютный вечер, а основополагающий инстинкт, благодаря которому стало возможным выживание человечества. Еще совсем недавно в эволюционном смысле ребенок, позволяющий оставить себя в темноте, вдали от общего очага, и крепко спящий всю ночь напролет, попросту не выжил бы. Он был бы немедленно сожран, или забыт, или замерз бы, или погиб бы по иной причине.
Во взрослых заложен ответный эквивалент этому интенсивному
детскому стремлению к близости: матери или оба родителя больше всего желают быть вблизи своего потомства. И они хотят наилучшим образом его обеспечивать, часто за счет невыразимых жертв или даже
самопожертвования. До тех пор, пока мы сохраняем хотя бы искру контакта с собственными эмоциями, мы находим младенцев неотразимо милыми, нам хочется взять их на ручки, потискать и защитить. Именно поэтому в настоящее время, к примеру, в канадских школах на занятия к детям с поведенческими нарушениями и сильно очерствевшими чувствами приносят младенцев и детенышей животных (этот проект называется «Babywatching» – «наблюдение за малышом», его сейчас пытаются внедрять в Москве. – Прим. ред.). Даже дети, которые в значительной степени утратили доступ к собственным чувствам нежности и заботы, обычно не могут противостоять очарованию малышей и таким образом открывают для себя заново мягкую сторону своей души.
Феномен привязанности не ограничен нами, людьми, он не ограничен
также ни миром животных, ни даже самой жизнью. Привязанность является тем, что как в субатомарном, так и в космическом масштабе, начиная от силы притяжения, магнетизма, химии и вплоть до любви, удерживает глубинную целостность нашего мира. Мы, люди, будучи млекопитающими, предрасположены к привязанности, к связи с другими людьми. Эта потребность настолько сильна и вездесуща, что на нее долго не обращали внимания и не изучали. Я представляю себе это так: привязанность для нас – то же, что вода для рыб. Даже если бы рыбы могли думать, им не пришло бы в голову задумываться о существовании воды. Вода всегда тут, а думающая рыба, оказавшаяся на суше, уже вряд ли сможет сообщить о своем опыте. Рыбы без воды умирают, а без возможности привязанности действительно умирают дети. Именно поэтому нам необходимо знать и понимать свойства этого мощнейшего инстинкта привязанности.
Как все в нашей Вселенной, привязанность заключает в себе
противоположности. Восхищение может превратиться в презрение,
подражание в сопротивление, любовь в ненависть. Противоречивость этих полюсов может быть преодолена с помощью интеграции. Эта способность к интегрирующему преодолению полярности является плодом длительного развития.
Маленькие дети в этом отношении еще весьма «односторонни». Если папа сегодня – герой дня, то только папа может помогать чистить зубы, читать книжку и петь колыбельную: «Мама, уходи! Пусть папа!» (или наоборот). Однако и для некоторых взрослых мир остается разделенным на белое и черное, крайне полярным образом. У них тогда в придачу к любимой футбольной команде обязательно будет и особо ненавистная команда-соперник. Никто в мире не будет им казаться столь отвратительным и мерзким, как бывший партнер, – до тех пор, пока разрыв отношений не будет внутренне по-настоящему синтегрирован.
Нойброннер Дагмар — Понимать детей. Путеводитель по теории привязанности Гордона Ньюфелда