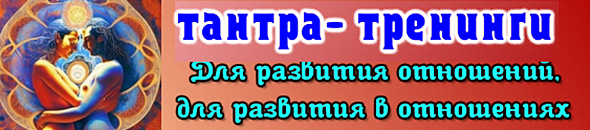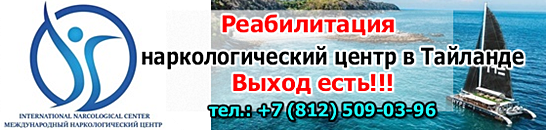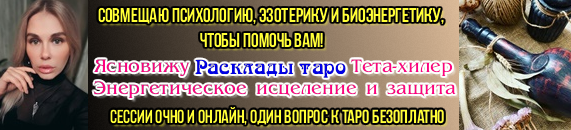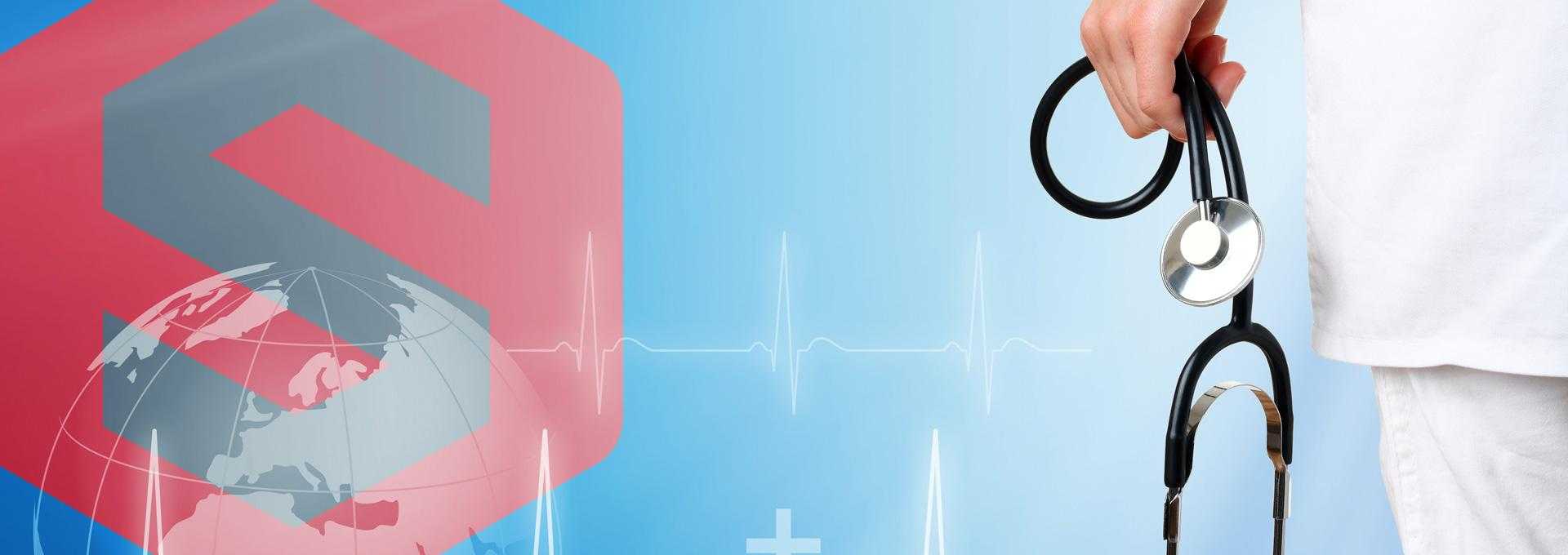ТРАНСФОРМАЦИЯ ХАРАКТЕРА. УРОКИ СТЭНФОРДСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
«Мы испытываем более яркое ощущение власти, когда ломаем дух человека, чем когда покоряем его сердце» Эрик Хоффер.
Стэнфордский тюремный эксперимент начинался как простой опыт по изучению влияния, которое оказывает сочетание ситуационных переменных на поведение людей, играющих роли заключенных и охранников в искусственно созданной тюремной среде. В этом экспериментальном исследовании мы не проверяли тех или иных гипотез, а скорее оценивали степень влияния внешних аспектов определенной среды на внутреннюю предрасположенность людей, оказавшихся в некоей ситуации. Мы хотели выяснить, что сильнее — хорошие люди или плохая ситуация.
Но потом эксперимент превратился в яркую иллюстрацию тлетворного воздействия плохих систем и плохих ситуаций, их способности заставить хороших людей вести себя патологическим образом, чуждым их природе. Хронология этого исследования, которую я попытался шаг за шагом восстановить в этой книге, ярко демонстрирует, как обычные, нормальные, здоровые молодые люди подчинялись давлению или уступали соблазну социальных сил, действовавших в этой поведенческой ситуации. То же случилось и со мной, а также с другими взрослыми людьми, профессионалами, которые так или иначе входили в контакт с этими силами. Граница между Добром и Злом, которая представлялась нам непроницаемой, оказалась весьма и весьма размытой.
Пришло время рассмотреть другие факты, собранные в ходе нашего исследования. Различные количественные источники информации проливают свет на то, что произошло в том темном тюремном подвале. Мы используем все доступные данные, чтобы осмыслить то, что проявилось в процессе этого уникального эксперимента, и установить способы, с помощью которых власть или ее отсутствие могут изменить человечество. В итоге мы сможем сделать важные выводы о человеческой природе и об условиях, влияющих на нее в лучшую и в худшую сторону.
Как мы видели, наша тюремная среда оказалась психологически весьма достоверной и вызывала у многих участников эксперимента сильные, реальные и часто патологические реакции. Мы были удивлены и откровенным доминированием охранников и тем, как быстро оно возникло в ответ на бунт заключенных. Нас поразило, что ситуационные факторы, как, например, в истории Дуга-8612, смогли так быстро и так сильно подчинить своему влиянию почти всех этих нормальных здоровых молодых людей.
Переживание потери собственной идентичности, произвол и постоянный надзор, а также отсутствие личного пространства и сна вызвали синдром пассивности, зависимости и депрессии, напоминающий феномен, получивший название «выученной беспомощности».
Половину студентов-заключенных пришлось освободить раньше времени из-за серьезных эмоциональных и когнитивных расстройств — временных, но весьма интенсивных. Большинство из тех, кто остался до конца, безропотно подчинялись требованиям и вели себя словно зомби. Они стали вялыми и апатичными, уступая любым прихотям охранников, власть которых становилась все более жесткой.
Как и отдельным «хорошим охранникам», лишь немногим заключенным удалось противостоять ситуации. Например, заключенные могли бы поддержать героический акт пассивного сопротивления, совершенный Клеем-416. Но они стали унижать и запугивать его — для них он стал просто «нарушителем спокойствия». Они безропотно приняли диспозиционную перспективу, которую внушили им охранники, и даже не попытались осмыслить голодовку Клея как символ и способ сопротивления слепому повиновению власти.
Иногда признаки героизма проявлял и Сержант — например, он отказывался обзывать и оскорблять других заключенных по приказу охранников. Но гораздо чаще он оставался примерным послушным заключенным. Джерри-486 оказался самым уравновешенным; однако, как он писал в своих заметках, он «выжил» только потому, что сосредоточился на своем внутреннем мире и старался как можно меньше помогать другим заключенным, которым, возможно, требовалась его поддержка.
Вначале у нас была группа людей, чьи данные почти не отклонялись от средних показателей образованного населения — по всем параметрам, которые мы измерили до эксперимента. Тех, кому случайным образом достались роли «заключенных», вполне можно было заменить теми, кто играл роли «охранников». Ни один из участников обеих групп не совершал преступлений, не имел никаких эмоциональных проблем, физических заболеваний и даже недостатков в интеллектуальной или социальной области, наличие которых обычно отличает заключенных от охранников и от других членов общества.
Круглосуточное наблюдение за поведением заключенных и охранников, за взаимодействием между ними, а также за тем, что происходило во дворе тюрьмы, было дополнено видеозаписями (около 12 часов), скрытой аудиозаписью (около 30 часов), опросниками, собственными отчетами испытуемых и различными интервью. Некоторые из этих данных были подвергнуты количественному анализу, а некоторые были прокоррелированы с окончательными данными.
Мы записали на видеопленку 25 отдельных эпизодов взаимодействия между охранниками и заключенными. Затем каждый эпизод или сцену мы оценили по десяти поведенческим (и вербальным) категориям. Два эксперта, не принимавших участия в исследовании, независимо друг от друга оценили видеозаписи; их оценки оказались достаточно близкими. Оценка происходила по следующим категориям: заданные вопросы, отданные приказы, предложенная информация, общение индивидуализирующее (позитивное) или деиндивидуализирующее (негативное), высказывание угроз, сопротивление, помощь другим, использование инструментов (с той или иной целью) и демонстрация агрессии.
Как показано на рисунке, обобщающем эти результаты, в целом во взаимодействии между охранниками и заключенными преобладали негативные, враждебные трансакции. Ассертивное поведение в значительной степени было прерогативой охранников, а заключенные занимали в целом пассивную позицию. Наиболее характерными для охранников во всех зафиксированных эпизодах были следующие реакции: они отдавали приказы, оскорбляли заключенных, деиндивидуализировали их, проявляли по отношению к ним агрессию, угрожали и использовали против них различные инструменты.
Половину всех зафиксированных взаимодействий между заключенными можно охарактеризовать как отсутствие поддержки и отсутствие сотрудничества. Более того, давая оценку или выражая свое отношение к другим заключенным, в 85 % случаев они делали негативные и осуждающие высказывания! Такая частота статистически значима: внимание к тюремным темам по сравнению со всеми остальными было зафиксировано только один раз из ста, а позитивные высказывания о других заключенных в противоположность негативным или нейтральным были зафиксированы всего пять раз из ста. Это значит, что такие поведенческие особенности «значимы», и их вряд ли можно объяснить случайными колебаниями настроения заключенных, пока они сидели в своих камерах.
Таким образом, у заключенных, интернализирующих подавляющую атмосферу тюрьмы, впечатления о своих товарищах складывались преимущественно на основании наблюдений за ситуациями, когда их унижали, а они вели себя как блеющие овцы и выполняли бессмысленные и унизительные приказы. Это не вызывало уважения. В такой обстановке просто невозможно сохранить чувство собственного достоинства. Последнее наше открытие напомнило мне феномен «идентификации с агрессором».
В отчаянной надежде выжить во враждебной, непредсказуемой ситуации жертва чувствует, чего хочет агрессор, и вместо того чтобы выступить против него, она принимает его образ и начинает ему подражать. Такая своеобразная психологическая защита устраняет пугающую разницу между неограниченной властью охранников и беспомощностью заключенных. Человек объединяется со своим врагом — в собственном воображении. Такой самообман позволяет уйти от реальности, подавляя эффективные действия, лишая чувства собственного достоинства, убивает бунтарский дух и сочувствие к другим заключенным.
Конечно, наша тюрьма была «ненастоящей», но она адекватно отражала основные психологические аспекты тюремного заключения — именно их я считаю самыми важными элементами «тюремного опыта». Безусловно, любые выводы, сделанные в ходе эксперимента, должны отвечать на два вопроса. Во-первых — «По сравнению с чем?», а во-вторых — «Какова его ценность и обоснованность — какие явления реального мира помогает объяснить этот эксперимент?». Ценность такого исследования обычно заключается в том, помогает ли он выявить базовые процессы, определить причинно-следственные связи и установить переменные, участвующие в создании наблюдаемого эффекта. Кроме того, эксперименты могут установить закономерности, которые при условии статистической значимости нельзя считать случайными.
Основы экспериментальной социальной психологии несколько десятилетий назад заложил теоретик и пионер социальной психологии Курт Левин. Он утверждал, что можно в теории и на практике вычленить из реального мира те или иные проблемы и протестировать их в экспериментальной лаборатории. При условии продуманной структуры исследования и тщательном оперировании независимыми переменными (постоянными факторами, которые служат в качестве предсказателей поведения), считал он, можно установить определенные причинно-следственные связи, что было бы невозможно при полевых исследованиях или наблюдениях. Но Левин пошел дальше — он призывал использовать психологическую науку для осуществления социальных изменений, применяя данные, полученные в ходе исследований, которые позволяют понимать и менять к лучшему общество и человеческие поступки. Я пытался следовать его вдохновляющим идеям.
Некоторые из наших добровольцев, случайным образом получившие роли охранников, скоро стали злоупотреблять своей новой властью и вести себя садистским образом — оскорблять, унижать и подавлять «заключенных» и днем, и ночью. Их действия соответствуют психологическому определению зла, предложенному в первой главе. Другие охранники добросовестно играли свою роль, были жесткими и требовательными, но не оскорбляли заключенных, проявляя некоторое сочувствие к их бедственному положению. Несколько охранников, которых можно назвать «хорошими», сопротивлялись искушениям власти и временами были внимательны к заключенным и оказывали им небольшие услуги — делились с ними яблоками, сигаретами и т. д.
Я обратил внимание на одну интересную параллель между нацистскими врачами СС из концлагеря Освенцим и нашими студентами-охранниками. Конечно, ужас и изощренность системы нацистских концлагерей не идет ни в какое сравнение с нашей мнимой тюрьмой. Как и наших охранников, этих врачей можно разделить на три категории. Как пишет Роберт Джей Лифтон в книге «Нацистские врачи», среди врачей, работавших в немецких концлагерях, были «фанатики, охотно принимавшие участие в уничтожении узников лагерей и даже „перевыполнявшие“ план по убийствам. Были те, кто участвовал в этом процессе более или менее систематически и делал не больше и не меньше того, что им приказывали; и были те, кто не хотел принимать участия в убийствах».
В определенной социальной среде, где действуют мощные силы, человеческая природа иногда подвергается трансформациям, столь же кардинальным, как в замечательной истории Роберта Льюиса Стивенсона о докторе Джекиле и мистере Хайде. Интерес к СТЭ сохраняется уже несколько десятилетий, по-моему, именно из-за того, что этот эксперимент продемонстрировал потрясающие «трансформации характера» под влиянием ситуационных сил — хорошие люди внезапно превратились в исчадия ада в роли охранников или же в патологически пассивных жертв в роли заключенных.
Хороших людей можно соблазнить, подтолкнуть или заставить творить зло. Еще их можно вынудить к иррациональным, глупым, саморазрушительным, антисоциальным и бессмысленным действиям, особенно в «тотальной ситуации», влияние которой на человеческую природу противоречит ощущению стабильности и целостности нашей личности, нашего характера, наших этических принципов.
Нам хочется верить в глубинную, неизменную добродетельность людей, в их способность сопротивляться внешнему давлению, рационально оценивать и отклонять искушения ситуации. Мы наделяем человеческую природу богоподобными качествами, твердой нравственностью и могучим интеллектом, которые делают нас справедливыми и мудрыми. Мы упрощаем сложность человеческого опыта, воздвигая непроницаемую стену между Добром и Злом, и эта стена кажется непреодолимой. С одной стороны этой стены — мы, наши чада и домочадцы; с другой — они, их исчадия и челядинцы. Как ни парадоксально, создавая миф о собственной неуязвимости для ситуационных сил, мы становимся еще более уязвимыми, поскольку теряем бдительность.
СТЭ, наряду со многими другими исследованиями в сфере социальных наук, раскрывает нам секреты, о которых мы не хотим знать: почти каждый из нас может пережить трансформацию характера, оказавшись во власти мощных социальных сил. Наше собственное поведение, как мы его себе представляем, может не иметь ничего общего с тем, кем мы способны стать и что способны совершить, попав в сети ситуации. СТЭ — боевой клич, призывающий отказаться от упрощенных представлений о том, что хорошие люди сильнее плохих ситуаций. Мы способны избежать, предотвратить, противостоять и изменить негативное влияние таких ситуаций только в том случае, если признаем их потенциальную способность «заражать» нас точно так же, как и других людей, оказавшихся в такой же ситуации. Так что каждому из нас полезно помнить о словах древнеримского комедиографа Теренция: «Ничто человеческое мне не чуждо».
Главный урок Стэнфордского тюремного эксперимента очень прост: ситуация имеет значение. Социальные ситуации зачастую оказывают более мощное влияние на поведение и мышление отдельных людей, групп и даже лидеров нации, чем мы привыкли считать. Некоторые ситуации оказывают на нас столь сильное влияние, что мы начинаем вести себя так, как раньше и вообразить себе не могли.
Власть ситуации сильнее всего проявляется в новой обстановке, в которой мы не можем опираться на предыдущий опыт и знакомые модели поведения. В таких ситуациях обычные системы вознаграждения (reward structures) не действуют, и ожидания не оправдываются. В таких обстоятельствах личностные переменные не имеют прогнозной ценности, ведь они зависят от оценки предполагаемых действий в будущем, оценки, основанной на привычных реакциях в уже знакомых ситуациях, но не в новой ситуации, к примеру, в незнакомой роли охранника или заключенного.
Поэтому всякий раз, когда мы пытаемся понять причину какого-то странного, необычного поведения — собственного или других людей, нужно начинать с анализа ситуации. К факторам предрасположенности (наследственность, черты характера, личностные патологии и т. д.) можно обращаться только в том случае, когда анализ, основанный на изучении ситуации, ничего не дает при разгадывании загадки. Мой коллега Ли Росс добавляет, что такой ситуационный анализ побуждает нас к «атрибутивному милосердию». Это означает, что, прежде чем обвинить человека в том или ином проступке, следует проявить к нему милосердие и сначала исследовать ситуационные детерминанты проступка.
Однако об атрибутивном милосердии легче говорить, чем проявлять его на практике, потому что у большинства из нас есть мощное предубеждение — «фундаментальная ошибка атрибуции», — препятствующее разумному отношению к людям. В обществах, движимых индивидуализмом, например, в Соединенных Штатах и многих других странах Запада, привыкли верить, что предрасположенность важнее ситуации.
Филип Джордж Зимбардо — Эффект Люцифера [Почему хорошие люди превращаются в злодеев]