Самоповреждение и суицидальные тенденции
В обоих понятиях, «самоповреждение» и «самоубийство», содержится намек на атаку на собственную самость, на свое «Я»: в первом случае самости наносится вред, во втором она уничтожается полностью, при условии, что попытка самоубийства оказывается удачной. Эти два понятия сущностно объединяет агрессия против своего «Я» – против «Я» целиком или какой-то его части, отщепленного тела.
Психоаналитик Ульрих Заксе (Sachsse, 1987, p.62) в этой связи также говорил о самоповреждении как «профилактике суицида», и тут я бы хотел оставить открытым вопрос, что именно имеется в виду: что в этом акте содержатся микродозы суицидальности, не позволяющие человеку дойти до попытки самоубийства как таковой, – или что самоповреждение и самоубийство скорее исключают друг друга, поскольку они подчиняются совершенно разной динамике, выполняют разные функции и имеют в своей основе разные интенции. Впрочем, в клинической практике обе формы самоповреждения, особенно у подростков, встречаются в равной степени, и мы видим, что некоторые функции у них идентичны, например, направленность на внешний объект или фантазия о слиянии с идеальным, или утопическим, объектом, как я предпочитаю его называть.
С моей точки зрения, «Я» в каждой из этих разных форм саморазрушения всегда различно, и я бы хотел сформулировать ключевую мысль: при суицидальных тенденциях «Я» сливается воедино с плохим, злым, а также утерянным объектом (подразумеваемом как представление об объекте). Эта мысль восходит к работе Фрейда «Печаль и меланхолия» (Freud, 1917е), которая все еще служит основой для понимания суицидальности: в этом полном уничтожении «я» содержится также агрессия против недостаточного объекта, которая интернализуется и укореняется в «Я».
Как описал Фрейд, жалобы на то, каким плохим является суицидальное «Я», на самом деле являются обвинениями, направленными на определенный объект, или же представляют собой и то, и другое, поскольку объект и субъект слишком мало разделены. Центральный механизм здесь – интроекция разочаровывающего объекта, его принятие-в-себя, и последующая идентификация в различных формах (см. Hirsch, 1996; 1997) – Фрейд (Freud, 1917e) говорит о «нарциссической идентификации»; к этому я еще вернусь. Другая концепция слияния «Я» и объекта тоже играет определенную роль в суицидальности, а именно – концепция «Я-объекта», которая в психологии самости Кохута означает слияние «Я» матери и ребенка или длительную, сохраняющуюся в течение всей жизни, в основном частичную форму разграничения собственного «Я» с помощью внешнего объекта или его свойств. Динамика «Я-объекта» относится к представлению о фузии (слиянии) в самоубийстве (Kind 1993, p.62); здесь «Я» и объект также остаются неразделимы.
Динамика самоповреждающего поведения, напротив, основывается не на процессах интроекции и слияния, а на диссоциации «Я». Его части, обычно телесное «Я», отделяются от всего остального, воспринимаясь и используясь как внешний объект (см. Hirsch, 1989; 2010; 2017). Поскольку агрессия может быть направлена только против отдельной части самости, «Я» может сохранять свою целостность. Очевидно, именно это имеется в виду, когда говорят о профилактике суицида через самоповреждение. В диссоциированной части «Я» находится изначально травматичный, разочаровывающий объект – и одновременно образ-представление детского жертвенного «Я» в первичной нарциссической идентификации, который, впрочем, заметно локализуется лишь в одной части «Я» и не идентичен всему «Я».
Представление родителей о том, какой ментальный опыт получает ребенок, очень важно для формирования у ребенка стабильной эмоциональной основы. Эта мысль встречается уже у Уилфреда Биона (Bion, 1962) в его концепции контейнирования, которую Фонаги и его коллеги (Fonagy et. al., 2002) впоследствии расширили гипотезой о том, что таким образом происходит первичная символизация; так, мать не только дает интерпретацию телесных проявлений ребенка, но и преподносит ему удобоваримую версию того, что он хотел выразить (уже у Винникотта, Winnicott, 1967).
Однако эта концепция также очень важна для травматических переживаний отвержения на ранней стадии развития: «Если функция отзеркаливания отсутствует или повреждена, это может привести к формированию такой психической организации, в которой внутренние переживания представлены крайне слабо, что приводит к необходимости искать иные формы компенсации физического опыта. К ним относятся, например, самоповреждение или поведение, враждебное по отношению к другим» (Fonagy, Target, p.965 и далее). И далее: «Нарушение этой функции запускает отчаянный поиск альтернативных способов контейнирования вызванных им мыслей и интенсивных переживаний» (Fonagy, Target, 1995, p. 294). Ребенок интернализует «в свое самоощущение психику другого, вместе с ее искаженным, отсутствующим или негативным его образом. Этот образ становится тем зерном, из которого впоследствии вырастает потенциально преследующий объект, находящийся в «я», однако остающийся ему чуждым и неассимилированным. Возникает отчаянное стремление к сепарации в надежде обрести автономную идентичность или существование».
Внутренний объект-преследователь также можно назвать травматическим интроектом, который после своего отделения проецируется на тело. «Когда имеет место непоследовательное представление об объектах как думающих и чувствующих существах, тогда их можно в какой-то мере контролировать, держать на дистанции или, наоборот, приближать за счет телесных ощущений»/
Саморазрушение становится выходом из дилеммы: «Освобождение “Я” от Другого путем разрушения Другого внутри этого “Я”» (там же). Это означает, что в первичной символической деятельности телесные ощущения, по крайней мере частично, представляют своего рода материнскую заботу – и что, в патологическом случае, самоповреждение может определяться как присутствием «матери», так и освобождением от травматически неадекватной внутренней «матери». Для меня эта мысль является ключевой для понимания деструктивных телесных проявлений, когда поврежденное, страдающее, зудящее, кровоточащее, а также сексуально возбужденное тело создает те ощущения, которые обеспечивают иллюзию присутствия материнского объекта.
Уязвимая фаза развития, в которой предположительно образуются корни пограничного расстройства личности, – это так называемая фаза повторного сближения (выделенная впервые Мастерсоном и Ринсли; Masterson, Rinsley, 1975), в которой также происходит переход к более зрелым, вербальным символическим формам. Здесь эмпатическая реакция матери как на стремление ребенка к отделению от нее, так и на регрессивную потребность в сближении приобретает особую важность. Однако та материнская среда, в которой растут будущие пациенты с телесными расстройствами, не в состоянии дать ребенку достичь этого равновесия. На мой взгляд, здесь имеет место некая противоречивая позиция и соответствующее поведение со стороны реальной материнской фигуры, которая и может приводить к телесным реакциям, как это многократно описывала Джойс Макдугал (McDougall, 1989) в контексте психосоматических реакций – и как это, по моему опыту, проявляется у пациентов с симптомами самоповреждения.
Телесная симптоматика в широком смысле содержит, на мой взгляд, амбивалентность и амбитендентность в отношении такого материнского объекта, который одновременно и сохраняется, и отвергается, что я и воспринимаю как «двойственность» данной симптоматики. Телесный симптом образует как раннюю диаду, так и ее отвержение, а также приводит к образованию суррогатного объекта, восходящего к материнскому объекту, создающего триумфальное чувство сепарации и автаркии. При пищевых расстройствах, особенно при булимии, также наблюдается эта двойственность – с одной стороны, тяга к слиянию (припадки обжорства), с другой стороны, полного отвержения, изничтожения материнского объекта.
Такого рода «двойственность» телесной симптоматики ярко проявляется в поведении матери, о котором рассказывают пациенты. Петер Фонаги и Мэри Таргет (Fonagy, Target, 1995, p.292) пишут о пациенте с врожденными телесными отклонениями, склонного к самоповреждающему поведению: «Деформированность тела и контакт с обольщающей и при этом отвергающей матерью, вероятно, и сформировали у него глубочайшую неуверенность в собственной ценности» (там же, курсив М.Х.). Такого рода ситуации хорошо известны, и уже давно был обнаружен тип «психосоматогенной матери».
Мелитта Шперлинг (Sperling, 1949) наблюдала у целого ряда матерей детей с психосоматическими болезными (астма, язвенный колит, аллергии и др.) следующее поведение: мать пресекала стремление ребенка к независимости и всячески его отвергала, однако вновь обращала внимание на ребенка, когда тот подчинялся ее воле или заболевал. (Именно такое поведение матерей пациентов с пограничным расстройством описали в 1975 году Мастерсон и Ринсли.) Шперлинг, соответственно, считала психосоматическую симптоматику выражением подчинения бессознательному желанию матери и одновременно бунта против него.
Психоаналитик Закин (Sackin), на которого ссылается Тейлор (Taylor, 1987, p.240) описывает типичную «психосоматогенную мать» так ярко и исчерпывающе, что нам ничего не остается добавить: «Доминантная, слишком вовлеченная, нарушающая границы, слишком требовательная, навязчивая, удушающая. Чтобы сохранить симбиотическую связь с ребенком, матери часто прибегают к тактике скрытого отвержения, когда их ребенок начинает демонстрировать инициативу, идущую вразрез с ее собственными желаниями, и пресекает любое поведение или аффективное проявление ребенка, которое пусть даже в минимальной степени демонстрирует стремление к автономии».
На мой взгляд, не только сам телесный симптом, но и симптоматичное самоповреждающее поведение представляют собой неудачную попытку выхода из стопорящей амбивалентности, которую ребенок испытывает по отношению к материнскому объекту. Они, с одной стороны, создают иллюзию ненужности материнского объекта как такового, когда с помощью тела агрессивно, своевольно выстраивается граница, отделяющая от этого объекта. А с другой, за счет такого поведения создается суррогатный симбиоз между телом и «Я».
Жертвы травматизации совершенно бессильны и являются игрушками, вещами в руках агрессора, который может с ними делать все, что хочет, просто потому, что имеет такую власть. Напрашивается мысль, что основная цель телесной диссоциации в результате травмы состоит в том, что жертва превращает собственное тело во внешнее «не-Я», чтобы обрести объект, над которым он или она, в свою очередь, может иметь власть, обращаясь с ним как угодно и нанося ему вред, в рамках грандиозной имитационной идентификации с агрессором (см. Hirsch, 1996) – и тем самым обретая силу агрессора, хотя при этом жертвой становится собственное тело – пусть и отщепленное.
По выражению Джорджа-Артура Гольдшмита (Goldschmidt, 2007): «С телом можно делать что угодно…» (p.187). То же самое упрямо повторяют молодые девушки, которые занимаются самоповреждением: «Это моё тело, и я могу с ним делать, что захочу!» (Hirsch 2010). Или: «These are my arms; I do with them as I please, whenever I please!» (англ. «Это мои руки; я делаю с ними что захочу, когда захочу!»), как выразилась пациентка Подволла (Podvoll, 1969, p.220). Часто отец, сексуально эксплуатирующий ребенка, или мать, дурно обращающаяся с ребенком, говорят: «Это мой ребенок, и я могу делать с ним что хочу!»
Таким образом, тело получает статус, так сказать, контейнера (Meltzer, 1986) или не-контейнера (Gutwinski-Jeggle, 1995). Согласно этой модели, тело становится сосудом, принимающим в себя пережитый травматический опыт, местом телесной экстернализации травматического интроекта. Если же рассматривать модель контейнирования с точки зрения отношений, тело получает функции объекта («Собственное тело как объект», Hirsch, 1989а). Оно как бы имитирует тело травмированного ребенка, которое, отщепляясь от остальных частей «Я», снимает с них груз жертвенности.
Собственное тело, впрочем, может представлять не только этого ребенка, когда-то перенесшего травму, но и воплощать собой оберегающий, опекающий материнский объект. Это была гениальная мысль Дональда Винникотта (Winnicott, 1971), который открыл фантазматическое значение знаменитого плюшевого мишки для маленького ребенка (в этой же роли может выступать и другой объект, кукла, одеяло или мягкая одежда – любой переходный объект, приносящий комфорт, англ. security blanket). Важна не столько сама вещь, сколько та фантазия, которая в ней материализуется.
Напрашивается мысль: а не может ли для этих же целей в качестве переходного объекта использоваться собственное тело? (Hirsch, 1989b) То, что тело действительно может быть использовано таким образом, известно с 1969 года: Джон Кафка (1969) представил пациентку, которая сравнивала кровь, стекающую по коже, с «защитным покрывалом» (security blanket), мягким «одеялом», схожим по функции с плюшевым мишкой. Эта пациентка говорила: «Пока у тебя есть кровь, ты носишь с собой это потенциальное «защитное покрывало», в которое можно закутаться» (там же, p.209). Другая пациентка так формулировала материнскую функцию собственного тела: она рассказывала, что страстно любит танцевать, причем в одиночестве. Так она получала телесное ощущение счастья и чувствовала себя матерью, укачивающей на руках малыша. В этом состоянии она отделялась от тела, и оно как бы танцевало само: «Отдаваясь на волю тела, я реализую фантазию слияния с самой собой».
Кроме того, в формуле «Мое тело – мое дело!» также содержится некое упрямое торжество, транслирующее позитивный аспект власти; многие девушки открыто показывают свои шрамы, оставшиеся от самоповреждения, как своего рода амулет – во всяком случае, девушка-анорексик гордится, что смогла создать с помощью своего тела, пусть и доведенного почти до смерти, «анти-мать», «не-мать», которая представляет собой диаметральную противоположность матери, с ее презираемым жирным телом. Чувство всемогущества и независимости, даже триумфа, описывается у Отто Кернберга (Kernberg, 1975, p.149): «У многих пациентов с тенденциями к самоповреждению, которые, нанося себе боль (порезами, ожогами и т.д.), пытаются таким образом избавиться от разного рода напряжения, иногда наблюдается очевидное стремление обрести эту власть над телом и гордость от возможности саморазрушения, своего рода чувство всемогущества и гордости от того, что его удовлетворение не зависит ни от кого больше».
Третья функция, которую может выполнять тело при самоповреждении, – это выстраивание границ. Иногда страдающее, поврежденное тело может служить цели отгородиться от объекта, воспринимаемого как угроза (например, от партнера, от собственных детей, прочих близких людей). Так, например, экзема, при которой кожа зудит и из нее сочится жидкость, держит партнера на расстоянии. С другой стороны, другой впечатляющий, парадоксально успокаивающий эффект самоповреждения заключается в том, что поверхность тела, страдающая, кровоточащая, наконец становится ощутимой и образует, в качестве искусственной границы между телом и «Я», своего рода суррогатные границы «Я», искусственную телесную границу, призванным в качестве протеза защищать границы «Я», которым угрожает вторжение, как «вторая кожа» (Bick, 1968) – искусственно созданный корсет, предотвращающий распад «я», которого человек страшится. Тройственную функцию диссоциированного тела или телесного «Я» – тело как часть «Я», как внешний объект и как пограничный орган – отмечает уже Дидье Анзьё (Anzieu, 1985, p.127) в связи с теорией границ «Я» Пауля Федерна.
Терапевтические интервенции, в целом, нацелены на то, чтобы укрепить у пациента границы «Я», развенчать фальшивые реальности и научить его «правильно пользоваться тестированием реальности». Этот вид терапии, в конечном итоге, призван создать у пациента «ясность относительно тройственного статуса его тела: как части «Я», как части внешнего мира и как границы между «Я» и миром.
Матиас Хирш — Самоповреждение, суицидальные тенденции и агрессия, направленная вовне — общность и различия



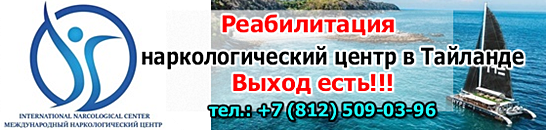
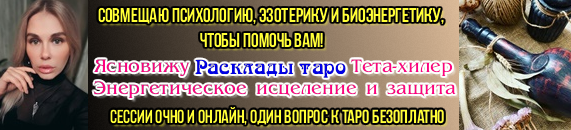









Самоповреждение как способ избавиться от внутренней боли (психотравма) перевести её на внешний уровень (тело), таким образом спрятать её вовне в попытке избавиться от неё. Таким образом первичный процесс (бессознательное) расщепляет не Самость, а ложную присвоенную идентичность, показывая разуму как раз работу и требования Самости…