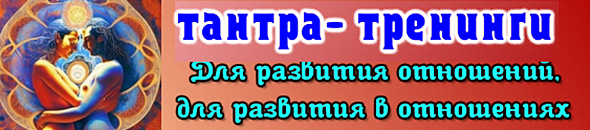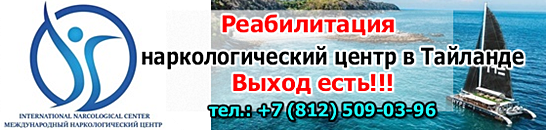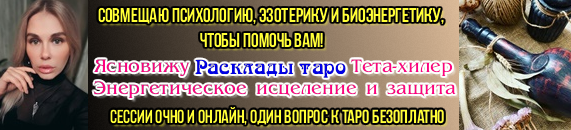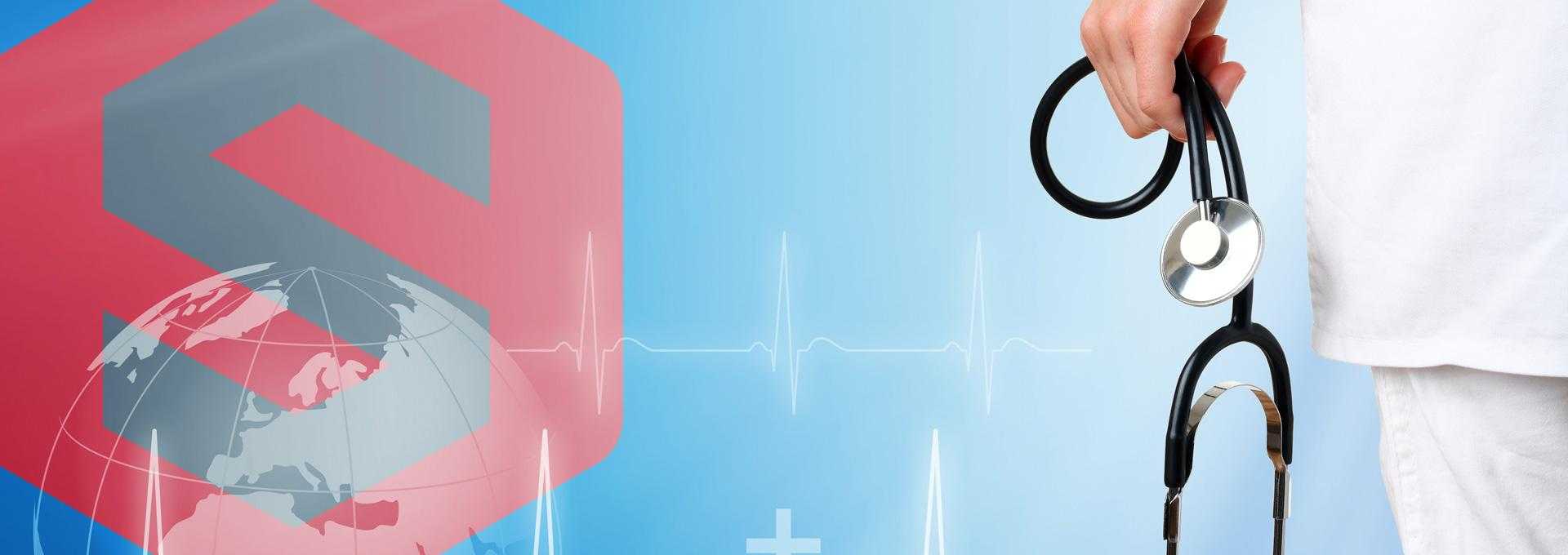ЭГОИЗМ И ОБЩЕСТВО
Конечно, индивид и общество – существа по природе своей различные. Но между ними не только нет какого-то антагонизма, индивид не только может привязываться к обществу без полного или частичного отказа от своей собственной сущности, но он по-настоящему является самим собой, целиком реализует свою сущность только при условии, что он привязан к обществу. Необходимости держаться в определенных границах требовала сама наша природа; там, где подобные ограничения отсутствуют, там, где моральные правила не имеют необходимого авторитета, чтобы оказывать на нас свое регулирующее воздействие в желаемой степени, мы видим общество, охваченное грустью, разочарованием, которые выражаются в статистике самоубийств.
Точно так же там, где общество не имеет больше свойства привлекать волевые усилия, которое в норме оно должно иметь, там, где индивид отворачивается от коллективных целей, с тем чтобы преследовать только свои собственные, мы видим те же явления и рост числа добровольных смертей. Человек тем более склонен к тому, чтобы убить себя, чем более он оторван от всякого коллектива, т. е. чем более живет жизнью эгоиста. Так, самоубийства происходят приблизительно в три раза чаще среди холостых, чем среди женатых, в два раза чаще в бездетных семьях, чем в семьях с детьми; их число растет даже обратно пропорционально числу детей.
В зависимости от того, входит индивид в семейную группу или нет, сводится эта группа только к супружеской паре или же, наоборот, она обладает большей устойчивостью вследствие присутствия более или менее значительного числа детей, следовательно, в зависимости от того, является ли семейное общество более или менее сплоченным, плотным и сильным, человек больше или меньше дорожит жизнью. Он убивает себя тем реже, чем больше ему надо думать о чем-то, кроме самого себя. Кризисы, усиливающие коллективные чувства, приводят к тем же результатам.
Например, войны, стимулируя патриотизм, уменьшают озабоченность личными проблемами; образ родины, которой угрожает опасность, занимает в сознаниях то место, которое он не занимал в мирное время; в результате, связи, соединяющие индивида с обществом, усиливаются, и вместе с тем также усиливаются связи, которые соединяют его с жизнью. Число самоубийств уменьшается. Точно так же, чем сильней сплочены религиозные общины, и чем больше их члены с ними связаны, тем лучше, следовательно, они защищены от мысли о самоубийстве. Конфессиональные меньшинства всегда сильнее сконцентрированы на самих себе, по причине самого противодействия, с которым им приходится бороться; поэтому в одной и той же церкви насчитывается меньше самоубийств в тех странах, где она составляет меньшинство, чем в тех, в которых она охватывает большинство граждан.
Поэтому не надо думать, что эгоист – это хитроумный знаток жизни, лучше других владеющий искусством быть счастливым. Как раз наоборот, он находится в состоянии неустойчивого равновесия, и достаточно любого пустяка, чтобы его нарушить. Человек меньше дорожит собой, если он дорожит только собой. Отчего так происходит? Дело в том, что человек в основном есть продукт общества. Именно от него к нам приходит все лучшее в нас, от него проистекают все высшие формы нашей деятельности. Язык есть явление прежде всего социальное; его разработало общество, и через него он передается от поколения к поколению.
Но язык – это не только система слов; каждый язык предполагает собственную ментальность, принадлежащую говорящему на нем обществу, в котором выражается его собственный характер, а именно эта ментальность составляет основу ментальности индивидуальной. И ко всем идеям, приходящим к нам из языка, следует добавить все те, которые приходят к нам из религии. Ведь религия – это социальный институт; именно она у бесчисленного множества народов послужила основой социальной жизни; все религиозные идеи, следовательно, имеют социальное происхождение; вместе с тем известно, что для значительного большинства людей они остаются еще ведущей формой общественного и личного мышления. Правда, сегодня в просвещенных умах наука заменила религию. Но именно и потому, что она имеет религиозное происхождение, наука, как и религия, наследницей которой она отчасти является, – это творение общества.
Таким образом, между индивидом и обществом совсем нет того антагонизма, существование которого столько теоретиков слишком легко предполагали. Наоборот, в нас есть множество состояний, которые выражают в нас нечто иное, чем мы сами, а именно общество; они представляют собой само общество, живущее и действующее в нас. Оно несомненно нас превосходит и выходит за наши пределы, так как оно бесконечно масштабней, чем наше индивидуальное существо, но в то же время оно проникает в нас со всех сторон. Оно вне нас и окутывает нас, но оно также и внутри нас, и значительной частью нашей природы мы с ним сливаемся воедино.
Точно так же, как наш физический организм питается продуктами, которые он берет извне, наш ментальный организм питается идеями, чувствами, практиками, которые приходят к нам из общества. Именно из него мы черпаем наиболее важную часть самих себя. С этой точки зрения легко объяснить, как оно может становиться объектом нашей привязанности. В действительности мы не можем оторваться от него, не отрываясь от самих себя. Между ним и нами существуют самые тесные и самые сильные связи, поскольку оно составляет часть нашей собственной субстанции, поскольку в известном смысле оно есть лучшая часть нас самих. Учитывая это, становится ясно, насколько хрупко существование эгоиста.
Эмиль Дюркгейм — Моральное воспитание