Состояния депрессивного отчаяния: отсутствие языка выражения
С клинически депрессивными пациентами так сложно работать оттого, что они слишком апатичны, чтобы просто разговаривать, не говоря уже о том, чтобы использовать сложный синтаксис, необходимый для психологического самовыражения. Когда они все же говорят, их язык зачастую скуден, в нем отсутствует самовыражение через воображение, метафору и символическое отношение, которые могли бы дать терапевту доступ во внутренний мир пациента.
Этот внутренний мир напоминает дом, из которого судебные приставы вынесли всю мебель, — он лишен всех символических сооружений и конструкций. Депрессивных пациентов интересует только возможность выздоровления: сможет ли терапевт их вылечить? В терапии депрессивного страдания мало что изменилось с тех пор, как Чехов сказал: «Если против какой-нибудь болезни предлагается очень много средств, то значит, болезнь неизлечима» (McVay: 1994).
В следующем отрывке из описания случая дается портрет тридцатилетнего мужчины, который пришел ко мне в анализ в глубокой депрессии; он употреблял алкоголь и марихуану, чтобы «продолжать жить». В процессе анализа его внутренний мир постепенно менялся; эти медленные и болезненные сдвиги помогли ему перейти к депрессивной позиции…
Дэйв приходил ко мне четыре раза в неделю на протяжении нескольких лет. Дэйв был врачом, и профессиональный авторитет помогал ему защищаться от тревожности, связанной с мыслями о собственной смертности. Когда он осознал, что не располагает внутренними ресурсами, которые помогли бы пережить болезненное и затянувшееся умирание отца, он обратился за помощью с жалобами на депрессию, которая лишала его дееспособности. Его отношения с отцом были полны амбивалентности, и он не мог представить себе, что когда-нибудь сам сможет стать отцом.
После четырех лет анализа, пройдя долгий путь и разрешив многие из нарциссических травм, которые ранили его хрупкую психику в детстве и наполняли его стыдом, Дэйв почувствовал достаточную уверенность в себе, чтобы согласиться завести ребенка со своей подругой. Он мог уже лучше справляться и со своим внутренним садизмом, и с неизбывной потребностью заботиться о других (и то и другое сыграло определенную роль в том, что он выбрал профессию медика), и реагировать символически на тревожность в отношении собственной смертности. Он больше не выглядел депрессивным, и в нашем «аналитическом календаре» был отмечен особый день, когда он появился на сессии со своим маленьким сыном и с запасным подгузником под мышкой.
Шло время, Дэйв уже не был в депрессии и ему не было необходимости поддерживать свое Эго алкоголем и наркотиками; он мог переносить фрустрацию и тревожность, не испытывая чрезмерного раздражения. Я видела, что он уже не депрессивен, но остается на депрессивной позиции, по Мелани Кляйн. Тон сессий, изначально лишенный метафор, становился все более философским. Не было больше резких скачков настроения, и Дэйв был готов принять на себя ответственность за свое несовершенство.
Однажды Дэйв приехал в восемь часов утра на сессию и рассказал мне, что пока он собирался и чистил зубы, он думал: «Для чего все это, что это я делаю?» По дороге он несколько раз попадал в пробки и тревожился, что опоздает; а затем, проезжая мимо большого парка, он увидел, как между деревьями восходит солнце. Я восприняла это пространство между деревьями как символическое зеркало, которое раскрыло ему глаза на природу и радость жизни.
Дэйв рассказал, что он был очень тронут этим зрелищем; он остановился, вышел из машины и пошел через парк, и там ему открылся «экстатический вид Лондона, простирающегося до портов Темзы». Когда он излагал подробности своего переживания, я подумала, что Дэйва потрясло не свойственное ему прежде чувство: он был способен признать в разговоре со мной, что чувствует удовольствие от жизни. Мое внимание привлекли изменения в положении тела Дэйва. Обычно он лежал на спине и рассматривал трещины в потолке, а сейчас был как бы вполоборота ко мне.
Меня поразило изменение его дыхания, и пока он говорил, я чувствовала, что его захватывает другой язык: по его лицу, обычно столь бесстрастному, текли слезы. Он продолжал говорить: «Я не знаю, что со мной происходит, я ошеломлен, мне не хочется, чтобы все это меня беспокоило, но похоже, выбора у меня нет. Я не хочу ехать в больницу или спешить на следующую встречу, листы ожидания и все остальное кажется таким тщетным. Меня потрясла красота этого зрелища.
Утром я слышал по радио, что сегодня годовщина открытия концлагерей, и по дороге сюда я думал о разных взглядах и о своем видении мира. Я не доверяю человечеству, я помню о Холокосте и о грудах обнаженных трупов; нечто подобное я делаю со своим телом и с телами своих пациентов, с которыми я соприкасаюсь, только когда они лежат без сознания на операционном столе. Я хочу уйти отсюда и просто посидеть где-нибудь час-другой; моя жизнь кажется такой маленькой. Я не знаю, каково это, быть таким эмоциональным, я почти возмущаюсь тем, что это со мной произошло, я увидел, что жизнь может быть совсем иной. Теперь я вспоминаю, что в детстве любил плавать на яхте, то было лучшее время, которое я проводил с отцом, и иногда там, на просторе моря, у меня бывали подобные переживания».
Слезы текли по его щекам, пока он говорил, и я была тронута, но не знала, стоит ли мне что-либо делать или просто слушать его рассказ. Он обратил ко мне заплаканное лицо: «Не могли бы Вы передать мне платки?» Я взяла коробку с бумажными платками и протянула ему; при этом моя рука на мгновение коснулась тыльной стороны его ладони. Это был наш первый физический контакт за несколько лет совместной работы. Дэйв всегда защищался от признания, что наши отношения были чем-то большим, чем просто контракт, поэтому я удивилась, когда он вытер нос, взглянул на меня и сказал: «Когда Вы прикоснулись ко мне, я почувствовал, что я не одинок, и мне стало легче выносить эти картины концлагерей. Спасибо». Переживание Дэйва было переживанием не депрессивного пациента, а того, кто достиг депрессивной позиции.
В лечении депрессии существуют две основные модальности: вербальные виды терапии, которые оперируют словами, и физические интервенции, в число которых входят фармакологическое лечение и электрошоковая терапия (ЭСТ). Одной из проблем некоторых моих коллег является их нежелание посылать пациента, который все глубже погружается в депрессию, к врачу общей практики или психиатру, чтобы они смогли в дополнение к терапии выписать ему антидепрессанты. Некоторые обращавшиеся ко мне пациенты, страдавшие от депрессии или суицидальных идей, были слишком депрессивны, чтобы интересоваться причинами своего страдания, слишком депрессивны, чтобы думать, слишком депрессивны для символического мышления.
Часто они не способны ни на что, кроме напряженного молчания или болезненной озабоченности своими симптомами. В таких случаях едва ли возможно проводить психотерапевтическую работу, пока не будет ослаблено переживание депрессии. Когда я соглашаюсь работать с клинически депрессивными пациентами, я всегда работаю в команде с психиатром; это не означает, что мы автоматически согласимся выписывать медикаменты, но ситуация находится под постоянным контролем. Соединять психосоциальное и психофармакологическое понимание депрессии сложно, но необходимо; опасность заключается в том, что многие терапевты считают, что это ситуация или/или. Это одна из причин, по которым психоаналитическая психотерапия в Лондоне проигрывает в глазах общественности: самонадеянность терапевта или аналитика не позволяет ему понять ограничения своего навыка интерпретации при работе с клинически депрессивными пациентами. Вследствие такого подхода пациентам не предоставляют наилучшего сочетания видов лечения, необходимых для их оптимального выздоровления.
В своей практике я обнаружила, что некоторые люди страдают от депрессии потому, что у них нет представления о своем внутреннем мире или о бессознательном. Они знают, что страдают, но у них нет ни малейшего представления, почему это происходит, и иногда чувство изоляции и разрастающаяся жалость к себе толкают их к суицидальному отчаянию. Работая с глубоко депрессивными пациентами, я поняла, что для них классический психоаналитический метод может быть мучительным.
К их ощущению депрессии прибавляется унижение от того, что они так озабочены психосоматическими симптомами и неспособны вербально выражать свои страдания. Депрессия часто вызывает эмоциональное онемение. В таких случаях я без колебаний меняю свою технику и излагаю собственные мысли и наблюдения либо говорю о том, что, как я знаю, интересовало пациента, пока он себя хорошо чувствовал, а иногда даже рассказываю истории.
Я вспоминаю одну пациентку, которая пришла на нашу первую встречу с перевязанными после третьей суицидальной попытки запястьями. Она сказала мне, что осознала свое желание прийти именно ко мне после нашего телефонного разговора; она звонила мне с просьбой о встрече. Когда она услышала в трубке лай собак и спросила, есть ли у меня собаки, я ответила на этот вопрос. Она сказала, что предыдущий аналитик отказывался отвечать на какие бы то ни было вопросы и большую часть времени — три сессии в неделю — она проводила в молчании лежа на кушетке.
Через год она ощутила еще большую депрессию и поняла, что воспринимает своего аналитика как мраморное изваяние, которое берет плату за визиты; она приняла сложное решение оставить его. Иногда мне приходится принять тот факт, что скорее звук моего голоса, чем смысл слов или понимание бессознательных процессов, смягчает отчаяние пациентов, хотя бы на время, пока они не смогут выдержать столкновение с бессознательными истоками своего страдания. Юнг хорошо сказал о том, что есть существенные различия между бессознательным отчаянием и сознательным пониманием его проявлений.
У меня всегда было ощущение, что неразрешимых проблем в конечном счете не существует, и практика часто подтверждала мое убеждение: я видела индивидов, которые просто перерастали проблему, разрушившую других. Это «вырастание» из проблемы, как я его назвала, в дальнейшем оказывалось повышением уровня сознания. На горизонте человека появляются высшие интересы, либо горизонт расширяется, и в результате проблема теряет свою насущность. Она не была решена логическим образом, строго говоря, но поблекла рядом с новыми, более сильными жизненными тенденциями.
Она не была вытеснена в бессознательное, но просто проявилась в другом свете и сама стала иной. То, что на более низком уровне приводило к жестоким конфликтам, буре эмоций и панике, с точки зрения более высокого уровня личности выглядит так же, как буря в долине, наблюдаемая с горной вершины. Это не значит, что буря утратила свою реальность; но вместо того чтобы находиться внутри, человек стал смотреть на нее снаружи. Но поскольку в нашей психике мы все находимся и в долине, и на горе, попытка стать выше всего человеческого окажется пустой иллюзией.
Конечно, индивид ощущает аффект, который терзает и мучает его, зо но в то же время в нем присутствует высшее сознание, которое не дает ему отождествиться с аффектом; сознание, которое видит аффект объективно и может сказать: «Я знаю, что я страдаю»… Когда я исследовала путь развития тех индивидов, кто спокойно и как бы бессознательно вырастал за пределы своих ограничений, я видела, что в их судьбах есть нечто общее. К ним из темной сферы возможностей, будь то изнутри или извне, приходило нечто новое; они принимали его и дальше развивались с его помощью. Характерно, что в некоторых случаях это новое находилось внутри, а в других — вовне; или, скорее, оно врастало в кого-то извне, а в кого-то изнутри. Но это никогда не было исключительно изнутри или извне. Если оно приходило извне индивида, то становилось его внутренним опытом; если изнутри, то обращалось в некие внешние события. Оно никогда не внедрялось в жизнь при помощи намерения и сознательной воли; скорее, оно «приплывало по течению времени» (К. Г. Юнг, Р. Вильгельм).
Многие пациенты всю жизнь страдают от депрессии, и для некоторых из них нет другого способа исцеления, кроме сознательного и ответственного признания того факта, что они в депрессии, вместо соматического выражения этого факта в бесконечной череде физических симптомов.
Как всегда, освещение этой темы мы находим в литературе и истории; в русской литературе содержится много вариантов архетипической фигуры Гамлета с его меланхолическим отчаянием. В число депрессивных родственников Гамлета входят Онегин, Обломов и Иванов — это лишь несколько имен из тех, что сразу приходят в голову. Чтобы понять Онегина и Иванова — второй жил примерно лет на 60 позже первого, — этих талантливых и привилегированных индивидов, сломленных экзистенциальным ужасом, мы должны рассмотреть их характеры в соответствующем контексте.
Джейн Хейнц — Состояния депрессивного отчаяния: отсутствие языка выражения




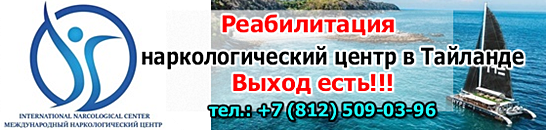
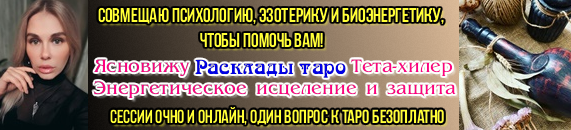



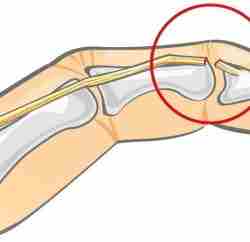




Такая статья, такая статьяяя*я- хоть кто то её прочёл?-хреново мужику- аж глист головообразный чудится( снится конечно же👍)-больше нет причин- автор холста- налей ему, и не хрен тут три тома в сети писать
Всё намного проще…
Мы все живём в своём ЯПОПСКОМ мире, управление в котором построено на озвученных и неозвученных ответах на всё от другого живого образного невидимого беззвучного и очень разумного измерения… измерения наших душ…
А вот система, которую мы своими ответами от них соорудили получилась ЯЖОПСКАЯ.
Если бы Дейв знал о том, что ему надо было бороться в своей голове с ЯЖОПЦЕМ, он бы стал ЯПОПЦЕМ намного быстрее, чем все эти росказни о дисресняках…
Самая херь когда пишут о том о чем понятия не имеют
Очень много букв.Лень читать.
Спасибо за статью
Благодарю, нооо, очень сухой текст, сложно воспринимать.
Глубинная, дебилы мля..
Статья понятна тем,кто с подобным столкнулся и находит отклик.спасибо
Настоящее хобби нашего поколения — это нытьё и тупая болтовня ни о чём.
Неудачные отношения, проблемы с учёбой, начальник-мудак… Это всё полная фигня.
Есть только один мудак — это ты.
Внатуре дох. Читать
глубинная работа, особенно про успокаивающий звук голоса запомнилось.
Спасибо за статью, мне очень понятна , жизненный опыт.
😉👍